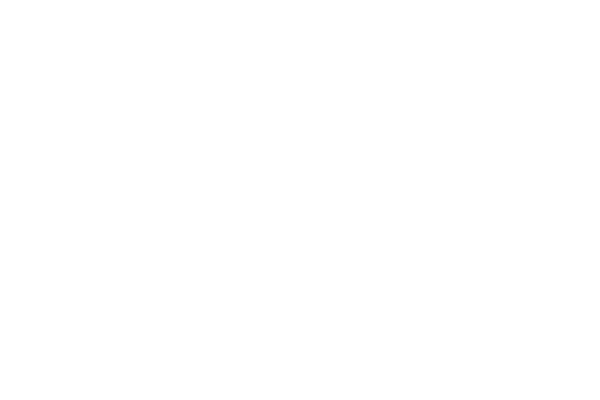Сегодня я приглашаю вас почитать стихотворение «Snow-flakes» Генри Уодсворта Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow, 1807−1882). Этот американский поэт принадлежит веку романтизма как в плане биографическом, так и в плане художественном. Он — одна из тех фигур в истории литературы, которые при жизни печатались огромными тиражами и наслаждались невероятной славой, а в последующие века были низвергнуты с пьедестала и отправлены в категорию художников второго, а то и третьего ряда. Один из критиков в начале XX века даже написал, что «Лонгфелло в поэзии то же самое, что шарманка в музыке», по всей видимости имея в виду монотонность и предсказуемость поэтики Лонгфелло, отсутствие в ней экспериментов и оригинальности. Однако при жизни поэта очень широкая публика, включая слуг английской королевы Виктории, любила и знала его стихи наизусть. Сейчас мы могли бы уподобить Лонгфелло тем великолепным мелодистам нашего времени, вроде Пола Маккартни или Элтона Джона, у которых что ни выйдет из-под инструмента, то будут напевать миллионы.
Лонгфелло был не только прекрасным мелодистом, но и прекрасным рассказчиком, таким, что очарованная публика готова была поглощать десятки страниц дактилического гекзаметра, следя за развертыванием любовного сюжета на фоне исторической трагедии французских переселенцев в Новой Шотландии в его первой хит-поэме «Эванджелина» («Evangeline»). И это при том, что самый распространенный и привычный читателю размер в англоязычной поэзии — ямб.
Now had the season returned, when the nights grow colder and longer,
And the retreating sun the sign of the Scorpion enters.
Другой поэтический блокбастер Лонгфелло, индейский эпос «Песнь о Гайавате», был намеренно написан размером «Калевалы», то есть четырехстопным хореем с женскими окончаниями: ТАта, ТАта, ТАта, ТАта:
Should you ask me, whence these stories?
Whence these legends and traditions,
With the odors of the forest,
With the dew and damp of meadows…
Конечно, только ленивый критик не поиздевался над простецким бравурным ритмом этих стихов, а читатели были снова околдованы миром поэмы.
Иногда бывает полезно обратиться к этому чулану забытых или немодных имен, достать оттуда пыльный томик (или пыльный музыкальный альбом) и прочитать его новыми и только своими собственными глазами. И даже если в нем обнаружится только пара таких стихотворений, как «Snow-flakes», или даже пара строф или строк, которые что-то сделают с нами: остановят, потрясут, может быть — даже изменят, этого, на мой взгляд, будет достаточно для реабилитации любого поэта.
Я хочу начать разговор о стихотворении со знаменитой бороды Лонгфелло, той белой седой бороды, без которой мы его не представляем. В 1861 году в жизни Лонгфелло произошла трагедия. Его любимая жена и мать шестерых его детей Фанни (урожденная Эпплтон) умерла от ожогов. Она запечатывала конверты с локонами своих дочерей, подогревая воск свечой, и ее платье загорелось. Пытаясь потушить огонь, Лонгфелло получил сильные ожоги лица, которые долго не заживали и оставили после себя шрамы. Чтобы скрыть их, поэт и отпустил бороду.
История любви Фанни и Генри Лонгфелло — сама по себе поэма. Он встретил Фрэнсис Эпплтон в Европе сразу после смерти своей первой жены Мэри, влюбился, и влюбленные проводили досуг, переводя с немецкого стихи, причем говорят, что строки Фанни были удачнее. Она была ему ровней и в плане интеллектуальной силы, и в плане эстетического чутья. Позднее их брак стал счастливым творческим сотрудничеством, в котором Фанни заметно влияла на траекторию творческих поисков своего мужа. Но прежде по непонятной причине она отвергла его предложение и приняла его только семь лет спустя. Ее сердце не смягчило даже такое подношение страждущего влюбленного, как любовный роман в прозе «Hyperion», в котором Фанни легко узнала их собственный роман с Генри.
SNOW-FLAKES
Out of the bosom of the Air,
Out of the cloud-folds of her garments shaken,
Over the woodlands brown and bare,
Over the harvest-fields forsaken,
Silent, and soft, and slow
Descends the snow.
Even as our cloudy fancies take
Suddenly shape in some divine expression,
Even as the troubled heart doth make
In the white countenance confession,
The troubled sky reveals
The grief it feels.
This is the poem of the air,
Slowly in silent syllables recorded;
This is the secret of despair,
Long in its cloudy bosom hoarded,
Now whispered and revealed
To wood and field.
Прежде всего стоит отметить, что само расположение строк стихотворения на странице создает визуальный образ если не симметричной снежинки, то по крайней мере хлопьев (flakes). (Стихотворение в оригинальном графическом оформлении со смещением строк в строфах можно найти на сайте Poetry Foundation https://www.poetryfoundation.org/poems/44 649/snow-fla.). Этот эффект можно уловить и на слух. В стихотворении три строфы по шесть строк с рифмами ABABCC DEDEFF GHGHII. Это — симметричная регулярная структура, и при этом мы можем видеть, что рифма AA (air, bare) первой строфы повторяется в третьей AHAH (air, despair), а конечные две рифмы второй строфы FF (reveals, feels) в слегка измененном виде возникают в последних двух строках II (revealed, field). Размер стихотворения — ямб, но количество стоп в рамках строфы меняется: в первой, третьей и четвертой строках это четырехстопный ямб, во второй строке он удлиняется на стопу, в пятой он укорачивается на стопу, а в шестой становится двустопным. Длина строк влияет на динамику стихотворения, а женские рифмы в первых четырех строках и мужские в последних двух создают эффект кружащейся снежинки, которая спускается все ниже и ниже и в конце концов опускается на землю. Это впечатление приземления и завершения порождается и синтаксисом строф. Посмотрите: и первая, и вторая строфы составляют одно предложение, с подлежащим и сказуемым в последней либо предпоследней строфе. В свою очередь, изобилие аллитераций со звуком s создает ощущение мягкости (Silent, and soft, and slow / Descends the snow), приглушенности (Slowly in silent syllables) и нашептывания (secret of despair whispered). Эффект симметрии и мерного покачивания создают и анафоры в каждой строфе (Out of / Out of / Over / Over / Even as / Even as / This is / This is). Перечитайте стихотворение еще раз с таким фокусом внимания.
Перейдем к визуальным образам стихотворения. И здесь нас сразу же встретят многочисленные критики Лонгфелло и первый среди них — великолепный эрудит XIX века Джон Рёскин (John Ruskin), придумавший термин «pathetic fallacy». Критический потенциал этого выражения, означающего «эмоциональное (pathetic) заблуждение», был направлен против персонификации природы как излюбленного приема поэтов-романтиков. Рёскин полагал, что острое эмоциональное переживание, например переживание горя, заставляет поэта антропоморфизировать облака, цветы или закат. Утрачивая при этом верность описанию природы, поэт остается верным правде переживаемого им сильного чувства, так что pathetic fallacy может давать великолепные образцы поэзии. В первой строфе даже «оздух написан с заглавной буквы, словно некое божество (хотя в XIX веке в англоязычной традиции еще писали существительные с большой буквы). Снег спускается из груди Воздуха, из облачных складок ее (!) растрепанных одежд. В третьей строфе воздух уже написан с маленькой буквы, и air уже не she, а it, если it относится к воздуху, но и у этого обычного воздуха — облачная грудь, в которой накопилось отчаяние. Джон Рёскин тут сразу же указал бы на того, кого в действительности переполняет отчаяние. Но стало бы стихотворение лучше, напиши его Лонгфелло от первого лица, с именами и фактами?
При чтении этого стихотворения, как и любой хорошей поэзии, важно обращать внимание на то, как в нет работают все использованные поэтом средства для достижения задуманного художественного эффекта. В этом стихотворении не просто описан снегопад и оно создает не только ощущение мягко спускающегося снега. Но что же еще? В первой строфе можно увидеть, что взгляд поэта имеет панорамный охват, и нам предстает большая двухцветная бесприютная картина: белый снег, тихо спускающийся на бурые голые леса и покинутые поля. Во второй строфе с помощью союза even as вызывается чувство одновременности внутреннего и внешнего, которые описываются одним эпитетом — the troubled heart, the troubled sky. В этой строфе стихотворение являет свою задачу обнаружения, признания и высвобождения в этом двойном признании горюющего сердца и горюющего неба (the heart doth make confession, the sky reveals the grief). Стоит обратить внимание на слово cloudy, присутствующее во всех трех строфах. Здесь это «our cloudy fancies». Любопытно, что Лонгфелло словно описывает здесь возникновение pathetic fallacy вообще и в своем стихотворении в частности. Смутные, облачные фантазии сердца воплощаются в образе тихого снега, медленно спускающегося из божественной груди, и вместе с ним из груди земной начинает выходить и высвобождаться — мягко, медленно, беззвучно — глубокая скорбь.
Третья строфа невероятно прекрасна не только самим звучанием своих первых двух строк: This is the poem of the air, / Slowly in silent syllables recorded, но и своим возможным мета-высказыванием, ведь это this is может быть отнесено как к самому стихотворению, так и к падающему снегу. Смена относящегося к воздуху притяжательного местоимения с her в первой строфе на it в третьей может говорить в пользу того, что эта строфа — автореферентная, то есть в ней описывается то, что делает стихотворение, и тогда у нас появляется чудесный образ облачной груди стихотворения, в которой накопилось отчаяние. Но также Лонгфелло может здесь снижать пафос божественного Воздуха до воздуха, которым дышат смертные, и тогда сам снегопад становится стихотворением, которое воздух записывает беззвучными слогами, вышептывая свою скорбную тайну лесу и полю. Но ведь и стихотворение вышептывает тайну Лонгфелло, тогда как снег его седин скрывает его шрамы. Те, кто испытал подобную утрату, знают, что говорить о ней прямо невозможно, не умаляя и не искажая ее при этом. Лонгфелло в этом стихотворении дает нам один из способов того, как можно говорить об утрате и освобождать сердце от тяжести, ведь снежинки невесомы. И тогда может произойти преображение пустых и заброшенных ландшафтов души под пеленой первого снега.
Лонгфелло был не только прекрасным мелодистом, но и прекрасным рассказчиком, таким, что очарованная публика готова была поглощать десятки страниц дактилического гекзаметра, следя за развертыванием любовного сюжета на фоне исторической трагедии французских переселенцев в Новой Шотландии в его первой хит-поэме «Эванджелина» («Evangeline»). И это при том, что самый распространенный и привычный читателю размер в англоязычной поэзии — ямб.
Now had the season returned, when the nights grow colder and longer,
And the retreating sun the sign of the Scorpion enters.
Другой поэтический блокбастер Лонгфелло, индейский эпос «Песнь о Гайавате», был намеренно написан размером «Калевалы», то есть четырехстопным хореем с женскими окончаниями: ТАта, ТАта, ТАта, ТАта:
Should you ask me, whence these stories?
Whence these legends and traditions,
With the odors of the forest,
With the dew and damp of meadows…
Конечно, только ленивый критик не поиздевался над простецким бравурным ритмом этих стихов, а читатели были снова околдованы миром поэмы.
Иногда бывает полезно обратиться к этому чулану забытых или немодных имен, достать оттуда пыльный томик (или пыльный музыкальный альбом) и прочитать его новыми и только своими собственными глазами. И даже если в нем обнаружится только пара таких стихотворений, как «Snow-flakes», или даже пара строф или строк, которые что-то сделают с нами: остановят, потрясут, может быть — даже изменят, этого, на мой взгляд, будет достаточно для реабилитации любого поэта.
Я хочу начать разговор о стихотворении со знаменитой бороды Лонгфелло, той белой седой бороды, без которой мы его не представляем. В 1861 году в жизни Лонгфелло произошла трагедия. Его любимая жена и мать шестерых его детей Фанни (урожденная Эпплтон) умерла от ожогов. Она запечатывала конверты с локонами своих дочерей, подогревая воск свечой, и ее платье загорелось. Пытаясь потушить огонь, Лонгфелло получил сильные ожоги лица, которые долго не заживали и оставили после себя шрамы. Чтобы скрыть их, поэт и отпустил бороду.
История любви Фанни и Генри Лонгфелло — сама по себе поэма. Он встретил Фрэнсис Эпплтон в Европе сразу после смерти своей первой жены Мэри, влюбился, и влюбленные проводили досуг, переводя с немецкого стихи, причем говорят, что строки Фанни были удачнее. Она была ему ровней и в плане интеллектуальной силы, и в плане эстетического чутья. Позднее их брак стал счастливым творческим сотрудничеством, в котором Фанни заметно влияла на траекторию творческих поисков своего мужа. Но прежде по непонятной причине она отвергла его предложение и приняла его только семь лет спустя. Ее сердце не смягчило даже такое подношение страждущего влюбленного, как любовный роман в прозе «Hyperion», в котором Фанни легко узнала их собственный роман с Генри.
SNOW-FLAKES
Out of the bosom of the Air,
Out of the cloud-folds of her garments shaken,
Over the woodlands brown and bare,
Over the harvest-fields forsaken,
Silent, and soft, and slow
Descends the snow.
Even as our cloudy fancies take
Suddenly shape in some divine expression,
Even as the troubled heart doth make
In the white countenance confession,
The troubled sky reveals
The grief it feels.
This is the poem of the air,
Slowly in silent syllables recorded;
This is the secret of despair,
Long in its cloudy bosom hoarded,
Now whispered and revealed
To wood and field.
Прежде всего стоит отметить, что само расположение строк стихотворения на странице создает визуальный образ если не симметричной снежинки, то по крайней мере хлопьев (flakes). (Стихотворение в оригинальном графическом оформлении со смещением строк в строфах можно найти на сайте Poetry Foundation https://www.poetryfoundation.org/poems/44 649/snow-fla.). Этот эффект можно уловить и на слух. В стихотворении три строфы по шесть строк с рифмами ABABCC DEDEFF GHGHII. Это — симметричная регулярная структура, и при этом мы можем видеть, что рифма AA (air, bare) первой строфы повторяется в третьей AHAH (air, despair), а конечные две рифмы второй строфы FF (reveals, feels) в слегка измененном виде возникают в последних двух строках II (revealed, field). Размер стихотворения — ямб, но количество стоп в рамках строфы меняется: в первой, третьей и четвертой строках это четырехстопный ямб, во второй строке он удлиняется на стопу, в пятой он укорачивается на стопу, а в шестой становится двустопным. Длина строк влияет на динамику стихотворения, а женские рифмы в первых четырех строках и мужские в последних двух создают эффект кружащейся снежинки, которая спускается все ниже и ниже и в конце концов опускается на землю. Это впечатление приземления и завершения порождается и синтаксисом строф. Посмотрите: и первая, и вторая строфы составляют одно предложение, с подлежащим и сказуемым в последней либо предпоследней строфе. В свою очередь, изобилие аллитераций со звуком s создает ощущение мягкости (Silent, and soft, and slow / Descends the snow), приглушенности (Slowly in silent syllables) и нашептывания (secret of despair whispered). Эффект симметрии и мерного покачивания создают и анафоры в каждой строфе (Out of / Out of / Over / Over / Even as / Even as / This is / This is). Перечитайте стихотворение еще раз с таким фокусом внимания.
Перейдем к визуальным образам стихотворения. И здесь нас сразу же встретят многочисленные критики Лонгфелло и первый среди них — великолепный эрудит XIX века Джон Рёскин (John Ruskin), придумавший термин «pathetic fallacy». Критический потенциал этого выражения, означающего «эмоциональное (pathetic) заблуждение», был направлен против персонификации природы как излюбленного приема поэтов-романтиков. Рёскин полагал, что острое эмоциональное переживание, например переживание горя, заставляет поэта антропоморфизировать облака, цветы или закат. Утрачивая при этом верность описанию природы, поэт остается верным правде переживаемого им сильного чувства, так что pathetic fallacy может давать великолепные образцы поэзии. В первой строфе даже «оздух написан с заглавной буквы, словно некое божество (хотя в XIX веке в англоязычной традиции еще писали существительные с большой буквы). Снег спускается из груди Воздуха, из облачных складок ее (!) растрепанных одежд. В третьей строфе воздух уже написан с маленькой буквы, и air уже не she, а it, если it относится к воздуху, но и у этого обычного воздуха — облачная грудь, в которой накопилось отчаяние. Джон Рёскин тут сразу же указал бы на того, кого в действительности переполняет отчаяние. Но стало бы стихотворение лучше, напиши его Лонгфелло от первого лица, с именами и фактами?
При чтении этого стихотворения, как и любой хорошей поэзии, важно обращать внимание на то, как в нет работают все использованные поэтом средства для достижения задуманного художественного эффекта. В этом стихотворении не просто описан снегопад и оно создает не только ощущение мягко спускающегося снега. Но что же еще? В первой строфе можно увидеть, что взгляд поэта имеет панорамный охват, и нам предстает большая двухцветная бесприютная картина: белый снег, тихо спускающийся на бурые голые леса и покинутые поля. Во второй строфе с помощью союза even as вызывается чувство одновременности внутреннего и внешнего, которые описываются одним эпитетом — the troubled heart, the troubled sky. В этой строфе стихотворение являет свою задачу обнаружения, признания и высвобождения в этом двойном признании горюющего сердца и горюющего неба (the heart doth make confession, the sky reveals the grief). Стоит обратить внимание на слово cloudy, присутствующее во всех трех строфах. Здесь это «our cloudy fancies». Любопытно, что Лонгфелло словно описывает здесь возникновение pathetic fallacy вообще и в своем стихотворении в частности. Смутные, облачные фантазии сердца воплощаются в образе тихого снега, медленно спускающегося из божественной груди, и вместе с ним из груди земной начинает выходить и высвобождаться — мягко, медленно, беззвучно — глубокая скорбь.
Третья строфа невероятно прекрасна не только самим звучанием своих первых двух строк: This is the poem of the air, / Slowly in silent syllables recorded, но и своим возможным мета-высказыванием, ведь это this is может быть отнесено как к самому стихотворению, так и к падающему снегу. Смена относящегося к воздуху притяжательного местоимения с her в первой строфе на it в третьей может говорить в пользу того, что эта строфа — автореферентная, то есть в ней описывается то, что делает стихотворение, и тогда у нас появляется чудесный образ облачной груди стихотворения, в которой накопилось отчаяние. Но также Лонгфелло может здесь снижать пафос божественного Воздуха до воздуха, которым дышат смертные, и тогда сам снегопад становится стихотворением, которое воздух записывает беззвучными слогами, вышептывая свою скорбную тайну лесу и полю. Но ведь и стихотворение вышептывает тайну Лонгфелло, тогда как снег его седин скрывает его шрамы. Те, кто испытал подобную утрату, знают, что говорить о ней прямо невозможно, не умаляя и не искажая ее при этом. Лонгфелло в этом стихотворении дает нам один из способов того, как можно говорить об утрате и освобождать сердце от тяжести, ведь снежинки невесомы. И тогда может произойти преображение пустых и заброшенных ландшафтов души под пеленой первого снега.
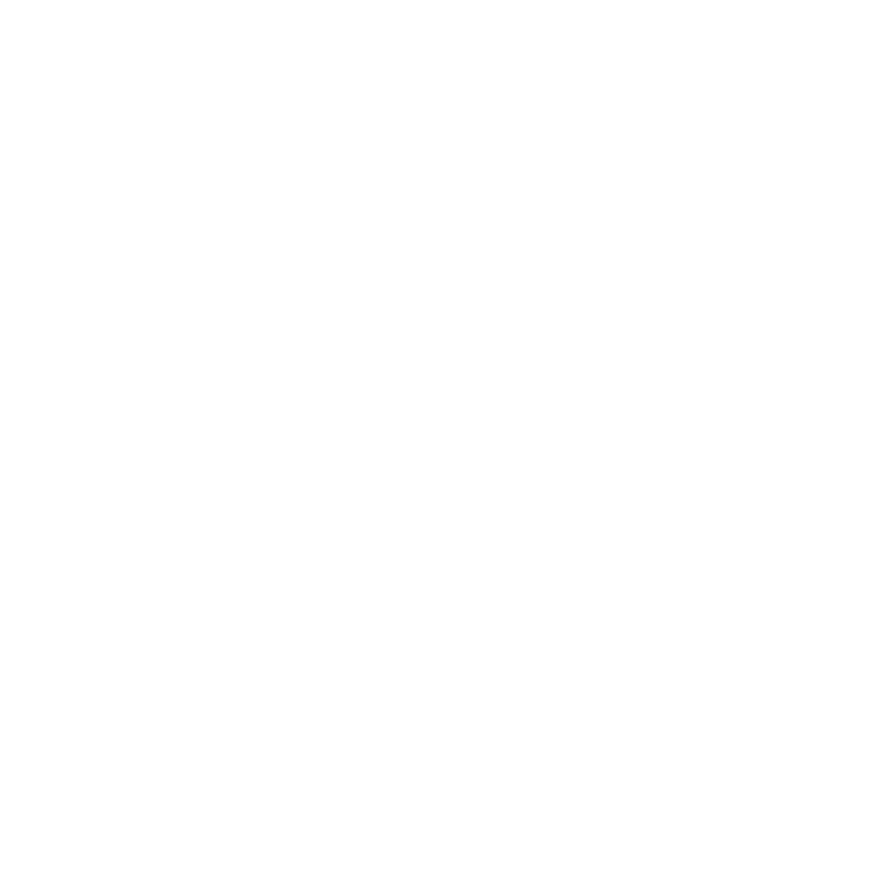
Преподаватель английского языка
Понравился урок? Поделитесь записью в любимой социальной сети
Другие материалы сайта